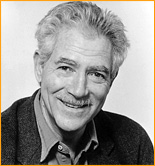 Дэниэл Н. Стерн
|
|
|
Глава 2. Младенчество: точка зрения и подходы
Картина опыта младенца, предлагаемая в этой книге, похожа на картины, которые обычно рисует психоанализ и психология развития, и в то же время отличается от них. Поскольку мой подход принимает методы и находки психологии развития и инсайты клинической практики, необходимо более подробно обсудить положения каждой из этих дисциплин и проблемы одновременного использования этих подходов.
Младенец наблюдаемый и клинический
Психология развития может исследовать младенца лишь в том случае, если этот младенец наблюдается. Чтобы сопоставить наблюдаемое поведение с субъективным опытом, необходимо делать выводы. Очевидно, выводы будут более точными, если данные, из которых они извлекаются, обширны и подтверждены. Исследование интрапсихического опыта должно направляться находками прямого наблюдения, поскольку источником самой новой информации остаются натуралистические и экспериментальные наблюдения. Но наблюдения за теми способностями, которые доступны младенцу, в лучшем случае помогают определить границы субъективного опыта. Чтобы получить полное представление об этом опыте, нам нужны инсайты клинической жизни, и для этой задачи необходим второй подход.
В отличие от младенца, наблюдаемого в рамках психологии развития, психоаналитические теории в процессе клинической практики (преимущественно со взрослыми) реконструируют другого «младенца». Этот младенец является совместным созданием двух людей — взрослого психиатрического пациента и терапевта с его теоретическими представлениями об опыте младенца. Этот воссозданный младенец состоит из воспоминаний, отреагирований трансфера и задаваемых теорией интерпретаций. Я называю это существо клиническим младенцем, чтобы отличать его от наблюдаемого младенца, поведение которого исследуется в тот самый момент, когда оно происходит.
Оба этих подхода важны для понимания развития ощущения самости младенца. Клинический младенец вдыхает субъективную жизнь в наблюдаемого младенца, а наблюдаемый младенец указывает на общие теории, на основании которых можно выстраивать выводы о субъективной жизни клинического младенца.
Возможность такого сотрудничества стала рассматриваться лишь в последнее десятилетие. Прежде наблюдаемый младенец соотносился преимущественно с не-социальными действиями: такими физическими проявлениями, как способность сидеть, хватать предметы или появление способности воспринимать объекты и размышлять о них. Клинический младенец, с другой стороны, всегда соотносился с субъективно переживаемым социальным миром. До тех пор, пока эти два младенца сопоставлялись с разными проблемами, они могли идти каждый своим путем. Их сосуществование не было проблематичным, а потенциал к сотрудничеству был невелик.
Но сейчас ситуация изменилась. Наблюдатели младенцев недавно начали интересоваться, как и когда младенец начинает видеть, слышать, взаимодействовать, чувствовать и понимать других людей и себя. Эти попытки привели к сопоставлению наблюдаемого младенца с клиническим младенцем, поскольку оба они соотносятся с разными версиями социального опыта жизни младенца, включая его ощущение самости. Сейчас их сосуществование подразумевает сравнения и сотрудничество.
При сравнении этих двух младенцев разного происхождения возникает следующая проблема: в какой степени они являются одним и тем же? В какой степени у них есть общая основа и их можно соединить ради общей цели? На первый взгляд, кажется, что обе точки зрения относятся к социальному опыту реального младенца. Если это так, то каждая из них сможет подтверждать или опровергать заявления другой. Однако многие полагают, что эти две версии не могут описывать одну и ту же реальность и что концептуализации одной из них не восприимчивы к находкам другой. В этом случае нет общей основы для сравнения, а возможно, даже и для сотрудничества (Kreisler and Cramer, 1981; Lebovici, 1983; Lichtenberg, 1983; Cramer, 1984; Gautier, 1984).
Диалог между этими двумя взглядами на младенчество и их влияние друг на друга — тема для данной книги вторичная. Основная тема — то, как они вместе помогают нам понять развитие ощущения самости младенца. Для той и другой цели необходимо более подробно исследовать каждый из этих взглядов.
Клиническое младенчество — конструкт весьма специфический. Он создан для понимания всего раннего периода истории жизни пациента, истории, которая появляется в процессе ее рассказа другому лицу. Вот что имеют в виду многие терапевты, когда говорят, что психоаналитические терапии — это особая форма создания истории, повествования (Spence, 1976; Ricoeur, 1977; Shafer, 1981). История раскрывается, а также меняется в процессе рассказа как ее создателем, так и слушателем. Историческая правда устанавливается исходя из того, что было рассказано, а не из того, что в действительности происходило. При этом есть возможность, что любое повествование о чьей-то жизни (особенно ранней жизни) столь же обосновано, как и любое другое. И действительно, есть соперничающие теории, или потенциальные повествования, описывающие, каким на самом деле было начало жизни. Истории о ранней жизни, созданные Фрейдом, Эриксоном, Кляйн, Малер и Когутом, будут несколько отличаться даже на материале одного и того же случая. Каждый теоретик выбирает в качестве центральных разные аспекты опыта, так что каждый создаст свою историю жизни пациента.
При таком подходе может ли какое-либо повествование подтверждаться представлениями о том, что происходило в младенчестве? Шафер (1981) доказывает, что не может. Он предполагает, что терапевтические повествования не просто объясняют или отражают то, что в действительности могло происходить когда-то; они также создают реальный опыт жизни, уточняя, чему следует уделять внимание и что следует особо выделить. Другими словами, реальная-жизнь-как-опыт становится продуктом повествования, а не наоборот. Прошлое — это, в каком-то смысле, вымысел. С этой точки зрения, вопрос о взаимном подтверждении клинического (повествовательного) младенца и наблюдаемого младенца не имеет смысла. Общей почвы не существует.
Рикер (1977) занимает не столь радикальную позицию. Он, в отличие от Шафера, не считает, что общей почвы для внешнего подтверждения не существует. Если бы это было так, говорит он, это бы «превратило психоаналитические утверждения в риторику убеждения, под тем предлогом, что приемлемость рассказа для пациента определяет его терапевтическую эффективность» (с. 862).
Рикер предполагает, что есть некие общие гипотезы о том, как функционирует психика и как она развивается, которые существуют независимо от многих конструируемых повествований — например, последовательность психосексуальных стадий развития или развивающаяся природа объектной или личностной соотнесенности. Эти общие гипотезы потенциально могут проверяться или подкрепляться непосредственным наблюдением или доказательствами, существующими за пределами любого конкретного повествования и за пределами психоанализа. Одно из преимуществ позиции Рикера состоит в том, что она дает клиническому младенцу столь необходимые независимые источники информации для исследования неявных общих гипотез, заложенных в конструирование жизненного повествования. Наблюдаемый младенец может быть одним из таких источников.
Я полностью согласен с позицией Рикера, которая предоставляет обоснование многому из того, что я делаю в этой книге, но понимаю, что эта позиция применима к метапсихологии или к теории развития, а не к конкретной реконструируемой истории пациента.
Есть и третье соображение, которое имеет отношение к этим различным, отчасти несопоставимым точкам зрения. Современный научный Zeitgeist (дух времени) обладает определенной убеждающей и легитимизирующей силой в определении того, что является разумным взглядом на вещи. И в настоящее время этот Zeitgeist благоприятствует методам наблюдения. Преобладающее представление о младенце драматически изменилось за последние несколько лет и будет продолжать меняться. В итоге возникнет неопределенность и споры относительно того, не является ли психоаналитический взгляд на младенчество слишком отличающимся от наблюдения и противоречащим ему. Как связанные области, возможно относящиеся к одной теме, хотя и с разных позиций, они не перенесут слишком сильного диссонанса; и в настоящее время представляется, что уступить придется психоанализу. (Эта позиция может показаться слишком релятивистской, но наука развивается при сдвиге парадигм, описывающих, как нам следует рассматривать вещи. Эти парадигмы — по сути, системы верований.) Таким образом, взаимное влияние наблюдаемого и клинического младенцев приведет одновременно к прямой конфронтации по этим специфическим проблемам, в которых эти два взгляда, как отмечает Рикер, смогут соревноваться, и к развитию понимания природы младенчества, в которое оба этих взгляда вносят свой вклад. Этот процесс будет постепенно определять, что считается приемлемым, логичным и соответствующим здравому смыслу.
Наблюдаемый младенец — это также особый конструкт, описание способностей, которые можно наблюдать непосредственно: способности двигаться, улыбаться, стремиться к новому, отличать лицо матери, кодировать воспоминания и т. д. Эти наблюдения сами по себе мало что говорят о том, каково «ощущаемое качество» живого социального опыта. Более того, они мало говорят нам и об организационных структурах, которые делают наблюдаемого младенца чем-то большим, нежели растущий перечень способностей, которые организуются и реорганизуются. Как только мы пытаемся делать выводы о реальном опыте реального младенца — то есть включить в описание качества субъективного опыта, такие как ощущение самости, — мы возвращаемся к собственному субъективному опыту как основному источнику вдохновения. Но именно это и есть область клинического младенца. Единственное хранилище такого рода информации — наши собственные жизненные истории, представление о том, каково нам самим было жить социальной жизнью. Но здесь возникает проблема: субъективная жизнь взрослого, рассказанная им самим, является основным источником выводов об ощущаемом качестве социального опыта младенца. Здесь неизбежно возникает замкнутый круг.
В каждом взгляде на младенца есть такие черты, которых нет в других. Вклад наблюдаемого младенца — это те способности, которые легко можно наблюдать; вклад клинического младенца — определенные субъективные переживания, которые представляют собой фундаментальные и общие для всех черты социальной жизни.
Частичное воссоединение этих двух младенцев необходимо по трем причинам. Во-первых, должен существовать какой-то способ, посредством которого реальные события — то есть наблюдаемые события («мама сделала то и это...») — трансформируются в субъективные переживания, которые клиницисты называют интрапсихическими («я воспринимал мать как ...»). Именно эта общая точка подразумевает участие и наблюдаемого, и клинического младенцев. Хотя эти две позиции не пересекаются, они касаются друг друга в определенных точках и создают интерфейс. Во-вторых, терапевт, который лучше знаком с наблюдаемым младенцем, помогает пациентам создавать более приемлемые истории жизни. В-третьих, наблюдатель, который лучше знаком с клиническим младенцем, может выбирать новые направления для наблюдения.
Точки зрения на вопрос развития
Психоаналитическая позиция
Психология развития рассматривает созревание новых способностей (таких, как координация между рукой и глазом, воспоминание и самоосознание) и их реорганизацию как адекватное содержание сдвигов в развитии. Психоанализ, ради клинической пользы и субъективного отчета, должен сделать следующий шаг и определить эти прогрессивные реорганизации в терминах более широкого организующего принципа развития, или ментальной жизни. Последовательность развития по Фрейду от оральной к анальной и затем к генитальной стадии рассматривалась как последовательная реорганизация влечения, или природы ид. Последовательность развития по Эриксону, от доверия к автономии, к трудолюбию, рассматривалась как последовательная реорганизация эго и структур характера. Подобным образом, последовательность организующих принципов Спитца касалась последовательной реструктуризации предтеч эго. Последовательность развития по Малер от нормального аутизма к нормальному симбиозу и к сепарации-индивидуации относилась к реструктуризации эго и ид, но в терминах восприятия младенцем самости и других. Последовательность развития по Кляйн (депрессивная, параноидная и шизоидная позиции) также описывает реструктуризацию восприятия самости и другого, но совершенно иным образом.
Описание развития в этой книге, при котором новые ощущения самости служат организующими принципами развития, похоже на описания Малер и Кляйн в том, что ведущую роль оно отводит восприятию младенцем самости и других. Различие в том, как понимается природа этого восприятия, как выстраивается последовательность развития, и в том, что я фокусируюсь на развитии ощущения самости, не смешанного с проблемами развития эго и ид и не обремененного ими.
Психоаналитические теории развития разделяют и другую предпосылку. Все они исходят из того, что развитие идет от одной стадии к другой, и каждая такая стадия — это не только специфическая фаза развития эго или ид, но и специфическая тема определенных прото-клинических вопросов. По сути, фазы развития относятся к тому, что младенец изначально имеет дело с определенным типом клинических проблем, которые позже можно будет наблюдать в патологической форме. Это имеют в виду Питерфройнд (1978) и Кляйн (1980), когда говорят о системе развития, которая является одновременно патоморфной и ретроспективной. Точнее, Питерфройнд описывает «два фундаментальных концептуальных заблуждения, особенно характерных для психоаналитической мысли: взросломорфизация младенчества и тенденция характеризовать ранние стадии нормального развития в терминах гипотез о последующих стадиях психопатологии» (с. 427).
Так, фазы оральности, анальности и так далее по Фрейду относятся не только к стадиям развития влечений, но и к потенциальным периодам фиксации — то есть к специфическим точкам происхождения патологии — что позже приводит к образованию специфических психопатологических категорий. Эриксон также ищет в своих фазах развития специфические корни последующей патологии эго и характера. И в теории Малер необходимость понять последующие клинические феномены, такие как детский аутизм, детский симбиотический психоз, чрезмерную зависимость, изначально приводит к постулированию наличия этих категорий в некоторой предварительной форме на ранних стадиях развития.
Эти психоаналитики похожи на теоретиков развития, но только работающих в режиме обратного времени. Их первоочередной целью было понимание развития психопатологии. Это насущная клиническая задача, с которой не сталкивалась ни одна другая психология развития. Но именно эта задача заставляла их, рассматривая развитие, ставить во главу угла патоморфно избираемые клинические проблемы, которые они наблюдали у взрослых.
Выбранный здесь подход, напротив, является скорее нормативным, чем патоморфным, и скорее проспективным, чем ретроспективным. Хотя нарушения в развитии любого из ощущений самости могут предсказывать патологию в будущем, различные ощущения самости предназначены описывать нормальное развитие, а не объяснять онтогенез патогенных форм (что не означает, впрочем, их бесполезности при решении данной задачи).
Психоаналитические теории делают еще одно допущение, что патоморфно созданная фаза, в которой клиническая проблема определена в терминах развития, представляет собой чувствительный период в этологических терминах. Каждой отдельной клинической теме, такой как оральность, автономия или доверие, выделяется ограниченный промежуток времени, специфическая фаза, на которой означенная специфическая для данной фазы клиническая проблема «доходит до апогея, переживает кризис и находит свое окончательное разрешение в определяющем столкновении со средой» (Sander, 1962, с. 5). При этом каждый возрастной период или фаза становится чувствительным, практически критическим периодом для развития отдельной специфической для данной фазы клинической темы или черты личности. Последовательности Фрейда, Эриксона и Малер являются примерами par excellence (по преимуществу). В таких системах каждой теме (например, симбиоз, доверие или оральность) отведено свое время. В результате перед нами проходят отдельные эпохи, в которых поочередно проявляется каждая из основных клинических проблем жизни.
Но действительно ли эти клинические темы определяют специфические возрастные фазы? Действительно ли последовательность различных доминирующих клинических проблем объясняет квантовые скачки социальной соотнесенности, которые легко замечают и наблюдатели, и родители? С точки зрения специалиста по психологии развития, при попытке использовать клинические темы для осмысленного описания фаз развития возникают серьезные проблемы. Хороший пример представляют собой основные клинические вопросы автономии и независимости.
Как можно идентифицировать решающие события, которые могут определить фазу, специфическую для тем автономии и независимости? И Эриксон (1950), и Фрейд (1905) выделяли в качестве основного для этой клинической темы события независимый контроль над функционированием кишечника в возрасте приблизительно двадцати четырех месяцев. Спитц (1957) в качестве решающего момента выделял способность сказать «нет» в возрасте около пятнадцати месяцев. Малер (1968, 1975) считала, что основным событием для автономии и независимости является приобретаемая в возрасте приблизительно двенадцати месяцев способность младенца ходить, когда он может по собственной инициативе отойти от матери. Время этих трех различных решающих событий различается на год, что составляет половину всей жизни двухлетнего ребенка. Это существенное разногласие. Кто из этих авторов прав? Правы все, и это одновременно и проблема, и ее решение.
По сути, есть и другие виды поведения, которые можно также определить в качестве критериев автономии и независимости. Взаимодействие взглядов между матерью и младенцем между тремя и шестью месяцами, например, поразительно напоминает взаимодействие между ними посредством локомоторного поведения в период от двенадцати до восемнадцати месяцев. В период от трех до пяти месяцев мать предоставляет младенцу контроль — или, скорее, младенец берет на себя контроль — над началом и окончанием прямого визуального включения в социальную активность (Stern, 1971, 1974, 1977; Вееbе и Stern, 1977; Messer и Vietze, в печати). Вспомним, что в этот период жизни младенец еще не умеет ходить и недостаточно хорошо контролирует движения конечностей и координацию между рукой и глазом. Однако визуально-моторная система уже практически созрела, так что при обмене взглядов младенец является вполне дееспособным партнером для взаимодействия. А взгляд — это мощная форма социальной коммуникации. Когда мы наблюдаем паттерны взглядов матери и младенца в этот период жизни, мы видим двух людей с практически равной возможностью устанавливать и контролировать этот тип социального поведения.
В этом свете очевидно, что младенец контролирует начало, поддержание, окончание или избегание социального контакта с матерью; другими словами, он помогает регулировать вовлеченность. Более того, контролируя свое направление взгляда, он самостоятельно регулирует уровень и количество социальной стимуляции, которой он подвергается. Он может отвести взгляд, закрыть глаза, смотреть мимо или «пустыми глазами». И при помощи намеренного использования таких разновидностей взгляда он может восприниматься как тот, кто отвергает мать, отстраняется от нее или защищается (Beebe and Stern, 1977; Stem, 1977; Beebe and Sloate, 1982). Oн может по собственному желанию возобновить вовлеченность и контакт посредством взгляда, улыбки и издаваемых звуков.
Способ, которым младенец регулирует стимуляцию и социальный контакт при помощи взгляда, в общем аспекте автономии и независимости напоминает способ, которым он будет достигать тех же целей девять месяцев спустя, уходя от матери и возвращаясь к ней. Тогда почему мы не должны считать период от трех до шести месяцев фазой, которая тоже специфична для автономии и независимости, как проявляющихся в поведении, так и переживаемых субъективно?
Матери прекрасно знают, что младенец может утвердить свою независимость и сказать решительное «НЕТ!» в четыре месяца тем, как он отводит взгляд, в семь месяцев жестами и интонациями голоса, в четырнадцать месяцев попыткой убежать, а в два года словами. Основная клиническая тема автономии или независимости проявляется во всех видах социального поведения, которые регулируют количество или качество вовлеченности. Вопрос о том, что же является решающим событием, которое делает тему автономии или независимости специфической именно для этой фазы, имеет большее отношение к скачкам созревания на когнитивном уровне или моторным способностям, которые находятся за пределами автономии и независимости как таковым. Именно эти способности и свойства являются решающими критериями в определении данной фазы у каждого теоретика. И у каждого теоретика эти критерии свои.
Сторонники существования основных клинических тем в ограниченных по времени специфических фазах доказывают, что хотя эти клинические темы, конечно же, постоянно играют свою роль, но все же есть некое доминирование; каждая тема в большей степени доминирует в определенный жизненный период. Конечно, в конкретный момент развития новые виды поведения, которые используются для осуществления актуальных тем, могут становиться драматическими (например, автономия и независимость принимают такую форму в «ужасные два года») и требовать большего социализирующего давления, которое привлекает к ним гораздо большее внимание. Но необходимость в большем социализирующем давлении в основном определяется культурой. «Ужасные два года» не во всех обществах считаются ужасными.
Поэтому вполне вероятно, что относительное доминирование протоклинических моментов в конкретный возрастной период является иллюзией, следствием теоретических, методологических или клинических потребностей и склонностей в сочетании с давлением культуры. Оно существует только в наших глазах, а не в опыте младенца. Кроме того, если выбрать какую-либо жизненно важную тему и посвятить отдельную эпоху развития ее окончательному разрешению, то картина процесса развития будет неизбежно искажена. Она будет отражать потенциальные клинические повествования, а не наблюдаемых младенцев. С точки зрения наблюдения, нет убедительных оснований для принятия основных клинических проблем в качестве адекватных определителей фаз или стадий развития.
Клинические проблемы — это проблемы всей жизни, а не ее отдельных фаз. Следовательно, клинические темы не могут объяснить изменения, которые в процессе развития происходят в социальном «чувстве» младенца или в его субъективном восприятии социальной жизни.
Когда эти традиционные клинические проблемы развития представляются содержанием последовательности чувствительных фаз жизни, появляется еще одна сложность. Несмотря на то что эти взгляды преобладали на протяжении многих десятилетий, еще не проводилось проспективных длительных исследований, которые поддерживали бы весьма отчетливые предсказания этих теорий. Психологические раны и травмы, полученные в специфическом возрасте и на специфической фазе, должны позже приводить к предсказуемому специфическому типу клинических проблем. Но таких данных нет.
Позиция клинически ориентированных теоретиков развития
Те кто наблюдает младенцев непосредственно, считают, что фазы развития, конечно, есть. Однако эти фазы рассматриваются не в терминах более поздних клинических тем, а, скорее, в терминах текущих задач адаптации, которые возникают вследствие созревания физических и психических способностей ребенка. Результатом является последовательность проблем развития, по которым диада должна прийти к соглашению ради целей адаптации. Именно с этой точки зрения Сандер (1964) описывает следующие фазы: физиологической регуляции (с рождения до трех месяцев); регуляции взаимного обмена, в особенности социально-аффективной модуляции (от трех до шести месяцев); совместной регуляции начала социальных обменов младенца и его манипуляций со средой (от шести до девяти месяцев); фокализации деятельности (от десяти до четырнадцати месяцев); самоутверждения (от пятнадцати до двадцати месяцев). Гринспан (1981) описывает в чем-то похожую последовательность, за исключением того, что его последовательность отходит от наблюдаемого поведения и инкорпорирует некоторые из абстрактных организующих принципов психоанализа и теории привязанности. Поэтому предлагаемые им стадии более гетерогенны: гомеостаза (с рождения до трех месяцев); привязанности (от двух до семи месяцев); соматопсихологической дифференциации (от трех до десяти месяцев); поведенческой организации, инициативы и интернализации (от девяти до двадцати четырех месяцев); и репрезентационной способности, дифференциации и консолидации (от девяти до двадцати четырех месяцев).
Большинство наблюдателей взаимодействия родитель-младенец согласятся с тем, что такие описательные системы в большей или меньшей степени описывают многие важные изменения в процессе развития. Хотя ряд специфических особенностей этих описательных систем остается спорным, эти системы клинически полезны при оценке и лечении диады родитель-младенец, нуждающейся в помощи. Главное здесь — не валидность этих описаний, а природа той позиции, которую они позволяют занять. Они фокусируются на диаде как целом и рассматривают ее в терминах задач адаптации. Это уход от попытки рассмотрения предположительного субъективного опыта младенца. Младенцы продолжают расти и развиваться, и такие абстрактные понятия, как гомеостаз, взаимная регуляция и тому подобное не являются существенной частью их субъективного социального опыта. Но в данном исследовании нас более всего интересует именно субъективный социальный опыт младенца.
Теория привязанности, поскольку корни ее находятся в психоанализе и этологии (Bowlby, 1969, 1973, 1980) и она развивалась, включая в себя методы и перспективы психологии развития (Ainsworth и Wittig, 1969; Ainsworth и др., 1978), описывает феномены на многих уровнях. На разных уровнях привязанность — это набор видов поведения младенца, мотивационная система, отношения между матерью и младенцем, теоретический конструкт и субъективный опыт младенца в форме «рабочей модели».
Некоторые уровни привязанности, такие как паттерны поведения, которые изменяются для поддержания привязанности в разном возрасте, можно легко описать в виде последовательности фаз развития, а другие, такие как качество отношений мать-младенец, являются темами всей жизни (Sroufe и Waters, 1977; Sroufe, 1979; Hinde, 1982; Bretherton и Waters, в печати).
Большинство теоретиков привязанности, возможно из верности академической психологии, не торопились согласиться с представлением Боулби о том, что, хотя привязанность — это точка зрения на эволюцию, вид и индивидуальную диаду, это также и точка зрения на субъективный опыт младенца в форме рабочей модели матери, которая у него есть. Лишь недавно исследователи вновь обратились к представлению Боулби о рабочей модели матери в психике ребенка. В настоящее время ряд специалистов (Bretheron в прессе; Main и Kaplan, в печати; Osofsky, 1985; Sroufe, 1985; Sroufe и Fleeson, 1985) разрабатывает конструкт привязанности, который имел бы смысл на уровне субъективного опыта младенца.
Представление о развивающихся ощущениях самости
Данное описание, даже в форме рабочей гипотезы, имеет много общего и с традиционной психоаналитической теорией, и с теорией привязанности. Необходимы конструкты высшего порядка, которые служили бы организующими принципами развития. В этом отношении данное описание полностью соответствует обеим теориям. Оно отличается от них в том, что организующий принцип касается субъективного ощущения самости. Психология Самости формируется как связная терапевтическая теория, которая фокусируется на самости как структуре и процессе, но еще не предпринималось систематических попыток рассматривать ощущение самости как организующий принцип развития, хотя некоторые предположения в этом направлении были озвучены (например, Tolpin, 1971, 1980; Kohut, 1977; Shane и Shane, 1980; Stechler и Kaplan, 1980; Lee и Noam, 1983; Stolerow, и др., 1983). И еще не ясно, насколько сопоставимы современные представления о развитии с постулатами Психологии Самости как клинической теории для взрослых.
Несомненно, Малер и Кляйн и школа теории объектных отношений обращались к переживанию самости-и-другого, но в основном как на чем-то вторичном по отношению к либидинальному развитию или развитию эго. Эти теоретики не рассматривали ощущение самости как первичный организующий принцип.
Это описание, фокусируясь на ощущении самости-и-другого, берет отправной точкой предполагаемый субъективный опыт младенца. В этом отношении оно уникально. Субъективные переживания сами по себе являются его действующими частями, в отличие от психоаналитических теорий, где действующими частями являются эго и ид, а из них уже следуют субъективные переживания.
Последовательности развития ощущений самости
По мере того как появляются новые виды поведения и способности, они реорганизуются и формируют организующие субъективные точки зрения на самость и другого. В результате появляются, квантовыми скачками, различные ощущения самости. Они будут кратко описаны далее. В части 2 каждому из них посвящена отдельная глава.
Существует физическая самость, которая воспринимается как связное, обладающее собственной волей физическое единство, со своей уникальной аффективной жизнью и историей. Эта самость, как правило, действует за пределами осознания. Она принимается как само собой разумеющееся, и ее даже сложно вербализовать. Это ощущение самости в переживании, которое я называю ощущением ядерной самости. Ощущение ядерной самости — это позиция, основанная на действии многих межличностных способностей. И когда формируется эта позиция, субъективный социальный мир меняется, и межличностный опыт начинает действовать в другой сфере, в области ядерной соотнесенности. Эта трансформация, или творение в процессе развития, происходит примерно между вторым и шестым месяцами жизни, когда младенец ощущает, что он и мать разделены физически, являются различными действующими лицами, имеют разные аффективные переживания и разные истории.
Это одна возможная организующая субъективная позиция в отношении самости-и-другого. Затем приблизительно между седьмым и девятым месяцами жизни у младенца начинает развиваться вторая организующая субъективная позиция. Это происходит, когда он «обнаруживает», что помимо его собственной психики есть и другие. Самость и другой теперь не просто ядерные сущности физического присутствия, действия, аффекта и непрерывности. Они теперь включают в себя субъективные ментальные состояния — чувства, мотивы, намерения, — которые кроются за физическими происшествиями в сфере ядерной соотнесенности. Новая организующая субъективная позиция определяет качественно иную самость и другого, которые могут «держать в голове» невидимые, но предполагаемые ментальные состояния, такие как намерения и аффекты, управляющие явным поведением. Эти ментальные состояния и становятся содержанием отношений. Это новое ощущение субъективной самости предоставляет возможность для интерсубъективности между младенцем и родителем и действует в новой области соотнесенности — в области интерсубъективной соотнесенности, — которая достигается квантовым скачком за пределы области ядерной соотнесенности. Ментальные состояния между людьми теперь могут «прочитываться», сопоставляться, к ним можно присоединяться и настраиваться на них (либо читаться ошибочно, сопоставляться неверно, присоединяться и настраиваться неточно). Природа соотнесенности при этом драматически расширяется. Важно отметить, что область интерсубъективной соотнесенности, как и ядерной соотнесенности, находится за пределами осведомленности и вербального описания. По сути, переживание интерсубъективной соотнесенности, как и ядерной соотнесенности, можно описывать лишь при помощи аллюзий; реальное описание дать невозможно (хотя поэты могут передавать его образ).
Ощущение субъективной самости и другого основывается на иных способностях, чем те, что необходимы для ощущения ядерной самости. Они включают в себя способность к разделяемому фокусу внимания, приписыванию другим намерений и мотивов и верного их понимания и ощущения, конгруэнтны ли они собственному состоянию чувств.
Приблизительно в пятнадцать-восемнадцать месяцев у младенца развивается третья организующая субъективная позиция в отношении самости и другого, а именно, ощущение, что самость (и другой) обладает запасом личностного знания о мире и опыта («Я знаю, что сок в холодильнике, и я знаю, что хочу пить»). Более того, это знание может объективироваться и представляться в виде символов, которые передают его смысл, помогают им поделиться и даже создать его при помощи взаимных переговоров, возможность для которых открывает язык.
Когда младенец способен создавать разделяемые смыслы в отношении самости и мира, у него формируется ощущение вербальной самости, которое действует в области вербальной соотнесенности. Это качественно новая область с расширенными, практически безграничными возможностями для межличностных событий. Это новое ощущение самости основывается на новом наборе способностей: способности к объективированию самости, к саморефлексии, к пониманию и употреблению речи.
До сих пор мы обсуждали три различных ощущения самости и другого и три различные области соотнесенности, которые развиваются в возрасте между двумя месяцами и вторым годом жизни младенца. Мы еще ничего не говорили о периоде с рождения до двух месяцев. Необходимо восполнить этот пробел.
В этот самый ранний период появляется ощущение мира, включающее в себя ощущение самости. Младенец занят соотнесением различных ощущений. Его социальные способности действуют с энергичной целеустремленностью, обеспечивая возможность социального взаимодействия. Это взаимодействие вызывает аффекты, восприятия, сенсомоторные события, воспоминания и другие представления. Некоторая интеграция различных событий происходит с рождения. Например, если младенец чувствует форму при помощи прикосновения к объекту, он знает, как должен выглядеть объект, который ему прежде не встречался. Другие виды интеграции не настолько автоматические, но им легко научиться. Связность формируется быстро, и младенцы переживают появление некой организации. Ощущение появляющейся самости постепенно приходит в их жизнь. Это переживание интеграции различных систем, и данную область мы можем называть областью появляющейся соотнесенности. Формирующиеся интегративные системы еще не охватываются единым организующим принципом. Это будет задача скачка развития в области ядерной соотнесенности.
Четырем описанным ощущениям самости и областям соотнесенности будет посвящена большая часть этой книги. Эти четыре ощущения самости по времени их появления соответствуют основным сдвигам в развитии. Изменение социального чувства младенца при появлении каждого нового ощущения самости также соответствует природе этих сдвигов. Ему соответствует и преобладающее «действие» между родителем и ребенком, которое меняется от физического и конкретного взаимодействия до ментальных событий, лежащих в основе явного поведения, а затем и смысла этих событий. Однако прежде чем продолжить исследование этих ощущений и областей, необходимо обратиться к теме чувствительных периодов и пояснить, что мы имеем дело не только с последовательными фазами, но также и с одновременными областями переживания самости.
Поскольку эти четыре области соотнесенности развиваются последовательно, одна за другой, что происходит в одной области, когда ей на смену приходит вторая? Сохраняется ли предыдущее ощущение самости в присутствии последующего, так что они сосуществуют? Или появление нового ощущения самости затмевает предыдущие, так что последовательные фазы сменяют друг друга как волны прилива?
Традиционная картина как клинического, так и наблюдаемого младенца располагает к мнению о последовательных фазах. В обеих системах развития взгляд младенца на мир драматически меняется при достижении каждой новой стадии; мир начинает рассматриваться преимущественно, если не исключительно, в терминах организации этой новой стадии. Что же тогда происходит с предыдущими фазами, с прежним представлением о мире? Оно либо затмевается и отбрасывается, либо, как предполагает Вернер (1948), остается в дремлющем состоянии и интегрируется в формирующуюся организацию, при этом теряя свой прежний характер. Как отмечает Кассирер (1955), достижение следующей стадии «не разрушает более раннюю фазу, а скорее включает ее в свою позицию» (с. 477). Это также происходит в системе Пиаже.
При такой последовательности фаз развития существует возможность в каком-то смысле вернуться к предыдущей фазе. Но необходимы особые процессы и условия, чтобы человек вернулся назад по времени развития и стал воспринимать мир так, как он воспринимался прежде. В клинических теориях этим целям служит регрессия. В системе Вернера и Каплана (1963) можно двигаться вверх и вниз по онтогенетической спирали. Эти возвращения к предшествующим, более глобальным способам переживания происходят, как предполагается, преимущественно в состояниях проблем, стресса, конфликта, неудачи адаптации или усталости, а также в состоянии сновидения, психопатологических или наркотических состояниях. За исключением этих регрессий, развивающиеся представления о мире в основном формируются последовательно, а не одновременно. Более поздняя организация опыта поглощает более ранние. Они не сосуществуют. Эта последовательность развития схематически изображена на рис. 1.1, где (а) может представлять собой оральность, доверие, нормальный аутизм; (б) анальность, автономию; (в) генитальность и т. д.

Это представление о развитии может быть самым разумным, когда мы рассматриваем последовательность развития определенных ментальных или когнитивных способностей, но такая задача перед нами сейчас не стоит. Мы пытаемся рассматривать ощущение самости, возникающее в межличностных взаимодействиях, и в этой субъективной сфере одновременность ощущений самости оказывается ближе к каждодневному опыту. И нет необходимости в экстраординарных условиях или процессах, чтобы происходило движение вперед-назад между переживаниями различных областей, то есть между различными ощущениями самости.
Иллюстрация из взрослого опыта поможет нам понять эту одновременность ощущений самости. Когда человек занимается любовью, это требующее полной вовлеченности межличностное событие включает в первую очередь ощущение самости и другого как отдельных физических сущностей; как движущиеся формы — это переживание относится к области ядерной соотнесенности, как и ощущение принадлежности своих действий, воли и активации, которые задействует этот физический акт. В то же время включается и ощущение субъективного состояния другого человека: разделение желаний, объединение намерений и взаимные состояния одновременно изменяющегося возбуждения, которые происходят в области интерсубъективной соотнесенности. И если кто-то впервые произносит «Я тебя люблю», эти слова обобщают то, что происходит в других областях (обобщают с вербальной позиции), и возможно, вносят совершенно новую ноту в отношения пары, что может изменить смысл истории, которая привела к этому моменту и последует за ним. Это — переживание в области вербальной соотнесенности.
Что насчет области появляющейся соотнесенности? Она не столь очевидна, но тем не менее присутствует. Например, можно «потеряться» в глазах другого, как если бы глаза вдруг оказались не частью ядерного другого, были бы не связаны с чьим-либо ментальным состоянием, вновь обнаружены и находились вне широкой организующей системы связей. Через мгновение «цвет глаз» вновь принадлежит известному другому; произошло переживание в области появляющейся соотнесенности.
Мы видим, что субъективное переживание социальных взаимодействий происходит одновременно во всех областях соотнесенности. Конечно, можно фокусироваться на одной из областей, частично исключая все остальные, но они при этом продолжают существовать как отдельный опыт, находящийся за пределами осознания, но потенциально ему доступный. По сути, многое из того, что подразумевают под «социализацией», направлено на фокусирование осведомленности на одной отдельной области, обычно вербальной, и принятие этой официальной версии переживаемого при отрицании переживания в других областях («неофициальных» версий происходящего). Тем не менее внимание может смещаться и действительно смещается с некоторой гибкостью от переживания в одной области к переживанию в другой. Например, используемый в межличностных целях язык является по большей части объяснением (в вербальной области) сопутствующих переживаний в других областях, плюс что-то еще. Если вы попросили человека что-то сделать и он отвечает: «Пожалуй, нет. Странно, что вы об этом просите!», он может одновременно приподнять голову и слегка откинуть ее назад, поднять брови и опустить взгляд на собственный нос. Смысл этого невербального поведения (относящегося к области ядерной соотнесенности и интерсубъективной соотнесенности) хорошо передается речью. Но эти физические действия сохраняют отчетливые характеристики переживания. Когда вы их осуществляете или становитесь их мишенью, это подразумевает переживания, выходящие за пределы языка.
Все области соотнесенности остаются активными в процессе развития. Младенец не вырастает из них; ни одна из них не атрофируется и не становится «устаревшей»; ее нельзя оставить позади и пойти дальше. Поскольку все области доступны, нет уверенности в том, что одна из них непременно должна доминировать в тот или иной возрастной период. Ни одна из них не находится в какой-то момент в привилегированном положении. Поскольку существует упорядоченная временная последовательность появления каждой области в процессе развития — сначала появление, затем ядерная, затем субъективная, затем вербальная, — неизбежно будут периоды, в которых одна или две области будут преобладать. По сути, каждая последующая организующая субъективная позиция требует в качестве своей предтечи наличия предыдущей. Будучи сформированы, эти области навсегда остаются отдельными формами восприятия социальной жизни и самого себя. Во взрослом опыте ни одна из них не теряется. Каждая становится просто более развитой. Именно по этой причине был избран термин «области» соотнесенности, а не «фазы» или «стадии». Описанная ситуация с развитием изображена на рис. 1.2.

Теперь мы можем вернуться к вопросу о чувствительных периодах. Похоже, изначальный период формирования во многих психологических (и нейробиологических) процессах развития является относительно чувствительным в том смысле, что события, происходящие на этой ранней стадии, будут оказывать большее влияние, и это влияние будет сложнее обратить, чем в случае события, которое произошло позже. Этот общий принцип предположительно применяется к формирующей фазе каждого ощущения самости. Время формирующих фаз схематически показано на рис. 1.3.

Этот взгляд позволяет нам рассматривать формирующую фазу каждого ощущения самости в качестве чувствительного периода. Клинические следствия такого представления будут показаны в главах 9 и 11.
Что происходит с важными клиническими темами автономии, оральности, симбиоза, индивидуации, доверия, привязанности, управления, любопытства и т. д. — темами, которые играют центральную роль в терапевтическом создании клинического младенца? Эти клинические вопросы вовсе не выпадают из картины. Они просто отдают свою роль первичных организующих субъективного опыта меняющимся ощущениям самости. Клинические темы, имеющие значение всю жизнь, такие как автономия и привязанность, прорабатываются в равной степени во всех областях соотнесенности, которые в данный момент доступны. Во время каждой формирующей фазы соотнесенности область межличностного действия, в которой задействуются эти вопросы, будет меняться по мере того, как меняется ощущение самости и другого. Соответственно, разные формы одной и той же темы, значимой всю жизнь, развиваются последовательно: например, физическая интимность во время ядерной соотнесенности, субъективная (подобная эмпатии) интимность во время интерсубъективной соотнесенности и интимность разделяемых смыслов во время вербальной соотнесенности. Таким образом, каждая клиническая тема, значимая всю жизнь, имеет собственную линию развития, и каждая область соотнесенности вносит несколько иной вклад в эту линию развития.
В общем, субъективная социальная жизнь младенца будет рассматриваться как обладающая следующими характеристиками. Младенец наделен наблюдаемыми способностями, которые могут созревать. Когда они становятся ему доступны, они организуются и трансформируются, квантовыми ментальными скачками, в организующие субъективные позиции в отношении ощущения самости и другого. Каждое новое ощущение самости определяет формирование новой области соотнесенности. Хотя эти области соотнесенности приводят к качественным сдвигам в социальном опыте, фазами они не являются; скорее, это формы социального опыта, которые сохраняются в течение жизни. Тем не менее изначальная фаза их формирования представляет собой чувствительный период развития. Субъективное социальное переживание является результатом суммы и интеграции переживаний во всех областях. Основные клинические темы рассматриваются как значимые на протяжении всей жизни, а не на отдельных фазах развития. По мере появления каждой области переживания самости она вносит свой, отличный от других, вклад в онтогенез линий развития.
Вооружившись таким подходом, мы в следующем разделе этой книги обратимся к более подробному рассмотрению четырех ощущений самости и четырех областей соотнесенности. Мы сведем воедино данные наблюдений и клинического опыта, которые подтверждают такой взгляд на развитие субъективного социального опыта младенца.
Межличностный мир ребенка
 Книга выдающегося клинициста и исследователя Дэниэла Н. Стерна исследует внутренний мир младенца. Как младенец воспринимает себя и других? Существует ли для него с самого начала он сам и другой, или есть некая неделимая общность? Как он соединяет отдельные звуки, движения, прикосновения, визуальные образы и чувства в единое представление о человеке? Или это единое воспринимается сразу? Как младенец переживает социальное событие — «быть вместе» с кем-то? Как это «быть вместе» запоминается, или забывается, или представляется ментально? Каким становится переживание связи с кем-то по мере развития? Вообще говоря, какой межличностный мир — или миры — создает младенец? На эти и другие вопросы, касающиеся субъективной жизни младенца, пытается найти ответы автор, сочетающий подходы клинициста и исследователя и методики психоанализа и психологии развития.
Книга выдающегося клинициста и исследователя Дэниэла Н. Стерна исследует внутренний мир младенца. Как младенец воспринимает себя и других? Существует ли для него с самого начала он сам и другой, или есть некая неделимая общность? Как он соединяет отдельные звуки, движения, прикосновения, визуальные образы и чувства в единое представление о человеке? Или это единое воспринимается сразу? Как младенец переживает социальное событие — «быть вместе» с кем-то? Как это «быть вместе» запоминается, или забывается, или представляется ментально? Каким становится переживание связи с кем-то по мере развития? Вообще говоря, какой межличностный мир — или миры — создает младенец? На эти и другие вопросы, касающиеся субъективной жизни младенца, пытается найти ответы автор, сочетающий подходы клинициста и исследователя и методики психоанализа и психологии развития.
© PSYCHOL-OK: Психологическая помощь, 2006 - 2025 г. | Политика конфиденциальности | Условия использования материалов сайта | Сотрудничество | Администрация





