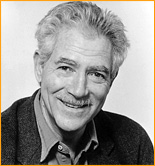 Дэниэл Н. Стерн
|
|
|
Глава 11. Общие принципы терапевтического процесса реконструкции прошлого развития
Как изложенные здесь представления о развитии могут влиять на клиническую практику? В частности, как терапевт и пациент могут реконструировать терапевтически эффективное повествование о прошлом? Из двух основных черт этого представления вытекает ряд клинических следствий. Во-первых, традиционные клинические темы развития, такие как оральность, зависимость, автономия и доверие, не привязываются к какой-либо специфической точке на шкале развития или к конкретной фазе. Эти темы понимаются здесь как линии развития — то есть они решаются всю жизнь, а не только на определенной фазе. У них нет периода чувствительности, предполагаемой фазы доминирования, на которой может случиться относительно необратимая «фиксация». Поэтому нельзя сказать заранее, на теоретических основаниях, в какой момент жизни традиционная клиническая проблема развития приобретает свою патогенную природу.
Традиционные теории проводят связь между специфической фазой жизни и первоначальным впечатлением каждой темы. Таким образом, теория предписывала нам направлять наше исследование по реконструкции к некоему реальному моменту времени. По сути, знание изначальных патогенных событий во время чувствительной фазы было не только практически желательным, но и теоретически значимым для более полного понимания патологии. С точки зрения, которая излагается здесь, сейчас ситуация изменилась. Реальная точка происхождения этих традиционных клинических тем может находиться в любом месте их непрерывной линии развития. Ее невозможно определить теоретически; она представляет собой загадку и вызов, и терапевт свободен странствовать с пациентом по разным возрастам и в разных областях ощущения самости, чтобы обнаружить, где реконструкция будет самой интенсивной, и ограничения теоретических предписаний не будут им мешать. Эта свобода позволяет терапевту равномерно распределять внимание (как изначально предлагал Фрейд) и превращает задачу реконструкции в настоящее приключение для терапевта и пациента. На то, к чему они придут, накладывается меньше теоретических ограничений. Другими словами, существует меньше заранее заданных представлений о том, каким должен быть реконструированный клинический младенец.
Конечно, большинство опытных клиницистов в процессе активной практики отодвигают свои теории развития на задний план. Такой терапевт пересматривает вместе с пациентом его историю, чтобы найти мощные жизненные переживания, которые дадут ключевую терапевтическую метафору для понимания и изменения жизни пациента. Это переживание можно назвать повествовательной точкой происхождения патологии вне зависимости от того, когда она появилась в реальном времени развития. После того, как метафора найдена, терапия движется вперед и назад по времени от этой точки происхождения. Ради эффективности терапевтической реконструкции терапия редко, если вообще когда-либо, возвращается к довербальному возрасту, к предположительной реальной точке происхождения патологии, даже если теоретически предполагается, что таковая существует. Большинство терапевтов согласятся с тем, что мы работаем с теми метафорами реконструкции, которые обладают максимальной объясняющей силой в отношении жизни пациента, хотя мы не можем найти «изначальную версию» этой метафоры. Хотя теория развития соблюдается только на словах, практика продолжается. Существует общепринятое представление о том, что теории развития, применяемые к пациенту, не дают нам надежных сведений о реальной точке происхождения традиционных клинических тем развития. Такая реальная точка происхождения патологии бывает лишь у теоретических младенцев, которые в реальности не существуют.
Второй основной момент, касающийся клинических следствий, заключается в том, что период появления каждого ощущения самости с наибольшей вероятностью является — по причинам, приведенным в главе 9, — чувствительным периодом. Именно различные области переживания самости, а не традиционные клинические темы развития производят сильное формирующее впечатление в конкретный период развития. Этот вывод позволяет сделать поддающиеся проверке клинические предсказания.
Начнем с возможных последствий отделения традиционных клинических тем развития от специфических для каждого возраста чувствительных периодов, а затем обратимся к некоторым из последствий того факта, что вместо них мы говорим об областях ощущения самости.
Следствия рассмотрения традиционных клинических тем развития как пожизненных проблем
Стратегии нахождения повествовательного происхождения проблемы
Представление о различных уровнях ощущений самости как формах текущего опыта может помочь нам в определении организующей терапевтической метафоры. Возьмем, например, пациента, основные проблемы которого сфокусированы на контроле и автономии. В поисках ключевой метафоры мы исследуем клиническое «чувство» этой проблемы. Первый вопрос при идентификации этого чувства такой: какая область соотнесенности наиболее выражена или активна? Ответ дает текущая жизнь пациента и его трансферные реакции. Пациенты позволяют легко определить, какое ощущение самости более всего задействовано в теме контроля. Представим себе три вида отношений между младенцем и матерью в аспекте автономии. Первая мать действует, исходя из предположения, что необходимо и желательно контролировать тело Джонни — то есть его физические действия — но не его слова или состояния чувства. Эти состояния — его личное дело. Вторая мать может ограничиваться лишь состояниями чувства Дженни и ее намерениями. А у третьей матери жизненно необходимая сфера контроля относится не к тому, что делает и чувствует Джимми, а лишь к тому, что он говорит. Ее волнует только это. Каждая из этих ситуаций приводит к иному клиническому чувству в определении того, с чем связана проблема автономии или какое ощущение самости поставлено на карту в этой борьбе.
Следующий случай помогает ответить на вопрос, где следует искать повествовательный источник проблемы и ключевую метафору. Пациентка тридцати с лишним лет, профессионал, жаловалась на то, что не может сама справляться с жизнью, инициировать собственные желания и цели. В жизни она занимала пассивную позицию и следовала курсу, определяемому принципом наименьшего сопротивления с учетом ее происхождения и ментальных ресурсов; она шла по пути, который инициировался и направлялся другими людьми. Так она стала адвокатом и вышла замуж. Источником ее острого страдания в данный момент было ощущение парализованности в адвокатской карьере. Она чувствовала, что не контролирует ни настоящее, ни будущее, и ее жизнь находится в чужих руках. Она ощущала беспомощность и злость. Она слишком бурно реагировала на многие вещи, и это подвергало опасности ее работу. Рассказывая о ситуации на работе, она обращала особое внимание на детали, касавшиеся ее авторства на физическом уровне, в особенности инициации и свободы ее физических действий: она хотела сделать перестановку в своем офисе, передвинуть все, что она могла, — цветочные горшки, книги, столик для кофе, — и планировала, как она это сделает, но почему-то не могла приступить к действиям. Она злилась на одного из старших партнеров за то, что он превратил общую комнату в помещение для конференций, которым могли пользоваться только старшие партнеры. Она расстраивалась из-за того, что не могла, как раньше, зайти в эту комнату и полюбоваться видом города, а не потому, что такая ситуация создавала ей неудобства в работе или воспринималась как требование признать свой низкий статус. Она возмущалась сильнее всего именно тем, что лишилась возможности пройтись по этой комнате и посмотреть из окна.
Ее озабоченность физической свободой действия вызывала ощущение, что речь идет прежде всего об области ядерной соотнесенности, и в частности о чувстве авторства. Это впечатление усиливалось тем фактом, что она не ощущала неспособности инициировать и контролировать свою жизнь в областях интерсубъективной и вербальной соотнесенности. Она весьма эффективно справлялась с недопониманием и эмпатическими разрывами. Учитывая этот факт, мы стали искать те времена, когда нарушалось ее ощущение ядерной самости, и в особенности физического авторства. «Момент» жизни, ставший для терапии повествовательной точкой происхождения ее проблемы, был обнаружен в возрасте от восьми до десяти лет, когда она часто оставалась в постели из-за ревматической лихорадки и субострого бактериального эндокардита. Этот жизненный период уже исследовался в лечении достаточно подробно; она говорила тогда о депрессивных и депривирующих чертах своей болезни. Однако на этот раз мы концентрировали терапевтическое исследование на чувствах, связанных с ее ощущением ядерной самости. Она вспомнила, что ей запрещали двигаться и даже подходить к окну; если она все же пыталась что-то делать или двигаться, то чувствовала сильную физическую усталость. Для любого физического действия — спуститься или подняться по лестнице, взять книгу с полки, открыть окно — ей приходилось ждать отца или матери, которые ей помогут. Она чувствовала, что вынуждена ждать полжизни, пока «мир придет в движение» по инициативе кого-то другого.
Эта физически больная самость, не обладающая авторством и способностью инициировать желательные действия, не способная «двигать мир», стала ее повествовательной точкой происхождения. Именно это ощущение самости она переживала сейчас, и оно стало стержневой метафорой для «клинического младенца», которого мы реконструировали. После нахождения этой метафоры она относительно легко смогла исследовать другие проявления этого исторического события, и даже некоторые из предрасполагавших к нему факторов. Постепенно это помогло ей понять острое страдание, которое она переживала на работе, и справиться с ним. Эта метафора стала отправной точкой для исследования этого аспекта ее проблем, и в терапии она ориентировалась на эту точку как на Полярную звезду. Этот случай выявляет несколько важных для наших целей моментов. Во-первых, исторические события («травматические» события), ставшие точкой повествовательного происхождения, имели место в период латентности. Вне зависимости от возраста, их основной эффект приходился на область ощущения ядерной самости. Поскольку все ощущения самости, сформировавшись, остаются активными, растущими, субъективными процессами на протяжении всей жизни, все они уязвимы для деформаций в любой момент жизни. И поскольку такие темы, как автономия или контроль, являются пожизненными темами, они также уязвимы в любой момент времени.
Повествовательная точка происхождения может соответствовать — а в данном случае, вероятно, соответствует — реальной точке происхождения. Генезис психологических проблем может — хотя не обязательно — отсылать нас к младенчеству. Развитие ощущений самости продолжается все время, на всех уровнях «примитивности». Развитие — это не последовательность событий, оставшихся в истории. Это постоянный обновляющийся процесс.
Второй заслуживающий упоминания момент состоит в том, что формирующие события, которые произошли, когда пациентке было восемь-десять лет, были «первой версией» проблемы. Они не обязательно должны были быть «повторным изданием» более ранних детских событий. Нам нет необходимости искать теоретическую реальную точку происхождения. Тогда можно спросить, почему пациентка не смогла преодолеть историческое событие, травму? Разве не следует искать более ранние причины, которые вызвали у нее предрасположенность к травме? Да, было бы полезно узнать про ее предрасположенность к такой уязвимости, но это не то же самое, что искать «оригинальную версию» травмы в более ранние годы.
Психопатологию, если рассматривать ее с точки зрения развития, лучше всего представить как континуум аккумуляции паттернов. На одном краю находятся настоящие неврозы, при которых изолированное событие (находящееся за рамками предсказуемого и характерного) оказывает резкое патогенное воздействие на индивида. Эта патология имеет реальную точку происхождения, которая может находиться в любом моменте развития. Повествовательная и реальная точки происхождения неизбежно совпадают. Аккумуляции здесь нет.
На другом конце спектра находятся кумулятивные паттерны взаимодействия, которые можно наблюдать с очень раннего возраста, даже отслеживать их начало в младенчестве и продолжение по ходу развития. Эти характерные кумулятивные паттерны приводят к формированию типов характера и типов личности и, в крайних случаях, к расстройствам личности по Оси II DSM-III. У них нет реальной точки происхождения в каком-либо осмысленном значении. Негативное событие (или паттерн) присутствует и действует во всех точках развития. Происходит его аккумуляция. Естественно, паттерн начинается в какой-то самой ранней точке, но это не значит, что вклад этой точки более важен количественно или даже качественно, чем вклады последующих точек.
Где-то в середине этого континуума находится ситуация, в которой характерные кумулятивные паттерны развития являются необходимым, но не достаточным условием патогенного влияния реальной негативной ситуации. В этом случае реальная точка развития не определена и становится предметом предположений.
Неопределенность может приводить к путанице в терапии. Большинство психоаналитиков будет утверждать, что есть ранняя версия, которую либо невозможно вспомнить из-за вытеснения, либо невозможно опознать первую версию из-за искажений или трансформаций последующих. Эти постулаты имеют под собой скорее теоретическую, чем клиническую основу. Несомненно, вытеснение и искажения могут скрывать раннюю версию; это часто обнаруживается в клинической работе. Однако так бывает не всегда; и даже если бы это всегда было так, расшифрованная ранняя версия редко оказывается там, где предсказывает ее теория. Чтобы спасти ситуацию, теоретики постулируют наличие еще более ранней версии, скрытой еще большим вытеснением и искажением. Так образуется бесконечный цикл.
Когда психопатология рассматривается с клинической точки зрения, первоочередная задача состоит в том, чтобы обнаружить повествовательную точку происхождения — это оказывается ключевой метафорой (метафорами). Наши теории, описывающие реальную точку происхождения, на самом деле говорят нам лишь о том, как вести терапевтический поиск повествовательной точки происхождения. Даже в случае патологии характера терапия будет продвигаться медленнее, пока не обнаружит повествовательную точку происхождения (даже если она на самом деле не важнее сотни других возможных точек). Одна из основных задач терапевта состоит в том, чтобы помочь пациенту найти повествовательную точку происхождения, хотя бы как рабочую эвристику.
Третий значимый для нас момент — это способ, которым область ощущения самости способствует определению повествовательной точки происхождения. Связь между тем, как пациентка чувствует и ведет себя в настоящем, и тем, как она должна была себя чувствовать во время болезни в возрасте восьми или десяти лет, столь очевидна, что клиницист любой теоретической ориентации скоро проведет сравнение: «Есть ли сходство между тем, как вы сейчас чувствуете себя на работе, и тем, как в детстве вы ощущали себя больной и ограниченной в действиях?». В чем же заключается преимущество нашего внимания к развитию ощущений самости, когда работаем с пациентом? Один из ответов — меняется скорость и уверенность терапевтического поиска. В случае этой пациентки, как это часто бывает, установленная связь не была очевидной с самого начала, поскольку она никогда не говорила спонтанно о физических деталях своей болезни, а подробно описывала ее психологические черты. При помощи представления об областях ощущения самости найти повествовательную точку происхождения можно быстрее и легче.
Еще один момент, который следует отметить в завершение этого случая женщины-адвоката. Иногда и пациенту, и терапевту ясно, какое событие должно составлять повествовательную точку происхождения, но пациент не может почувствовать его, поскольку ключевые переживания не доступны на аффективном уровне. Представление о разных и сосуществующих уровнях ощущения самости помогает поиску аффективно заряженных переживаний, которые после раскрытия могут стать потенциальной повествовательной точкой происхождения.
Аффективная компонента ключевого переживания обычно кроется преимущественно в одной области соотнесенности (то есть в одном ощущении самости) или даже в одной черте этой области — в случае адвоката, в физическом авторстве и свободе. Тогда возникает клинический вопрос, какое ощущение самости заключает в себе аффект? Когда вопрос поставлен таким образом, представление об областях переживания самости может помочь в поисках направления. Процедура ничем не отличается от помощи пациенту в возвращении «туда» — какая-либо часть вспоминаемого события может «включить» воспоминание аффективной его части; мы лишь добавляем конкретное ощущение самости к списку переживаемых компонент, которые можно использовать в качестве ключевого сигнала вызова.
Другое описание случая поможет продемонстрировать, как действует этот процесс. Девятнадцатилетний юноша три месяца тому назад пережил психотический срыв после того, как его бросила девушка. Он признавал, что это было решающим событием. Он мог говорить о своем разочаровании и чувстве утраты, но исключительно на интеллектуальном уровне. Хотя он, казалось, все еще оплакивал эту утрату, он никогда не плакал и не переживал боль или удовольствие тех отношений. Он не проявлял никаких чувств в связи с этим событием. Он ровным тоном рассказывал о последней ночи, когда он ее видел, прежде чем она прислала ему записку о том, что все кончено. Они целовались на заднем сиденье автомобиля, и она сидела у него на коленях. Ему задавалось множество вопросов, чтобы вызывать те чувства, которые он к ней испытывал: «Что происходило в эту последнюю ночь?», «Вы целовались или только разговаривали?» (общие вопросы); «Вы чувствовали в ней какие-то изменения?», «Была ли она с вами, когда вас целовала?» (вопросы, направленные на интерсубъективную область); «Что вы ощущали, целуя ее?» (вопросы, направленные на область ядерной соотнесенности). Ни один из этих вопросов не извлек скрытый аффект, но следующий вопрос был направлен еще глубже на ощущение ядерной самости: «Что вы чувствовали, ощущая ее тяжесть у себя на коленях?». Этот вопрос вызвал воспоминание аффекта и позволил пациенту впервые за три месяца заплакать. У другого пациента — у которого, например, шок и обида вызваны в первую очередь не утратой, а тем, что его обманули, собственной уязвимостью, ощущением, что он не уловил какие-то сигналы, и злостью по этому поводу — вопрос «Была ли она с вами, когда вас целовала?», адресующийся неудаче в области интерсубъективности, мог вызвать скрытые чувства гнева и унижения.
Стратегии поиска при известном диагнозе
Различные теории, описывающие определенную диагностическую категорию, по-разному объясняют основное субъективное переживание заболевания и его возникновение. В качестве примера широкого расхождения взглядов рассмотрим то, что говорят разные авторы о состоянии, которое Адлер и Буи описывали как «эмпирическое состояние интенсивного болезненного одиночества», распространенное у пограничных пациентов (Adler and Buie, 1979, с. 83). Каждая теория объясняет это чувство одиночества по-своему.
Некоторые авторы предполагают, что переживание покинутости является основным для пограничного пациента, и оно порождает тревожность, которую можно облегчить лишь посредством объятий, кормления, прикосновения или «слияния». Одиночество, как следствие этой покинутости, таким образом, представляет собой первичное переживание, вызывающее различные защиты (см. Adler and Buie, 1979). По нашему мнению, это переживание одиночества на уровне ядерной соотнесенности.
Другие авторы (см. Kohut, 1971,, 1977) предполагают, что фундаментальной детерминантой одиночества у пограничных пациентов является отсутствие эмпатического переживания и/или неудача «поддерживающего объекта», который обеспечивает психологическое выживание. Адлер и Буи, описывая этот вид одиночества, упоминают пациентку, которая объясняла свое «невыносимое одиночество» эмпатической недоступностью своей матери. По нашему мнению, это переживание одиночества на уровне интерсубъективной соотнесенности. (Адлер и Буи основным механизмом считают нарушение функционирования памяти воспоминаний. Это кажется слишком ограниченным подходом.)
Другие авторы подчеркивали, что переживание одиночества объясняется защитой против покинутости или неудач удовлетворения. Мейсснер (1971) предполагает, что желание инкорпорировать объект приводит к страху аннигиляции этого объекта. Устанавливается защитное расстояние для спасения объекта от разрушения, и оно становится вторичной причиной чувства одиночества. Кернберг (1968, 1975, 1982, 1984) предполагает, что неудачи удовлетворения приводят к ярости, которая затем задействует механизм расщепления, чтобы сохранить и «хороший», и «плохой» объект. Расщепление, в свою очередь, приводит к болезненному одиночеству. По нашему мнению, эти объяснения одиночества на основе защит принадлежат к уровню вербальной соотнесенности. Защита объекта от вашей собственной ярости относится к области реорганизованного, вербально представленного опыта.
Возможно, все три перечисленных взгляда верны, но ни один из них не является всеобъемлющим. Каждое из этих переживаний одиночества — это одно и то же состояние чувства, развивающееся в разных областях переживания самости. Все это, вероятно, так и происходит, и три различных качества чувства не требуют трех различных и взаимоисключающих динамических этиологий. Чтобы не пытаться лечить пациента при помощи неприемлемой для него динамики и в неверной области соотнесенности, необходимо прислушиваться к клиническому ощущению его состояния чувства, чтобы не этиологическая теория, а сам пациент направлял терапию к тому ощущению самости, которое сейчас страдает сильнее всего.
При заболевании поражены бывают все области соотнесенности, но обычно одна из них в конкретный момент времени переживается как самая проблематичная. Терапевт не может изначально знать, поражена ли эта область сильнее всего или слабее всего и потому наименее защищена. Эта точка зрения помогает смягчить споры в связи с эмпатическим подходом (который применяется в Психологии Самости) или интерпретативным подходом (который применяется в традиционном психоанализе), наиболее выраженные в терапии пограничных пациентов. Эмпатический подход впервые стал обращаться к проблемам в области интерсубъективной соотнесенности. Пациент обычно переживает шок, а затем облегчение, когда обнаруживает, что кто-то обладает способностью и желанием знать, каково это — чувствовать то же, что и он. Это облегчение и раскрытие межличностных возможностей чрезвычайно велико, и оно практически не зависит от обсуждаемого конкретного материала. (Сейчас в литературе много таких примеров и помимо Когута; см., например, Schwaber, 1980b.) Содержание материала — например, неудача удовлетворения, приводящая к ярости, к расщеплению, к чувству одиночества, — находится в области вербальной соотнесенности, и к нему можно обращаться лишь вторичным образом, как к фону, на котором достигается эмпатическое понимание.
С другой стороны, интерпретативный подход сначала обращается к материалу содержания, который существует в области вербальной соотнесенности. Эмпатическое понимание между пациентом и терапевтом отходит на задний план и прорабатывается во вторую очередь — и обычно позже, в процессе интерпретации трансфера и контртрансфера.
По сути, природа терапевтического подхода определяет, какая область переживания будет подчеркиваться в первую очередь. Поскольку проблемы можно ожидать во всех ощущениях самости и во всех областях соотнесенности, терапевт, благодаря избранному им подходу, найдет патологию, которую предсказывает этиологическая теория, определившая выбор его подхода. Проблема в том, что хотя поражены все области соотнесенности, одна из них, скорее всего, будет поражена сильнее всего и потребует не только большего, но и первоочередного внимания, чтобы лечение могло прогрессировать. Это требует от терапевта гибкости. Большинство терапевтов не придерживается исключительно одного подхода; на практике у них больше гибкости, чем можно предположить исходя из их теоретических предпочтений. Все это позволяет сделать следующее заключение: вместо того чтобы продолжать практиковать в кажущемся противоречии с руководящей теорией, чтобы более эффективно лечить пациентов, необходимо расширить теорию. Одно из средств для этого предоставляют изложенные здесь линии развития.
Стратегии поиска при известном возрасте травмы
В ситуации, когда можно определить возраст, в котором произошла травма, теории развития могут принести терапии максимальную пользу или максимальный вред. В какой степени наше терапевтическое слушание и понимание настроены конкретными теориями так, что мы слышим лишь определенный материал, а другой материал упускаем?
Здесь нам пригодится описание следующего случая. Пациент сообщал, что его мать была в клинической депрессии, когда ему было от двенадцати до тридцати месяцев, и родственники говорили, что в это время он, ее единственный ребенок, стал угрюмым и тревожным, постоянно нуждался в поддержке, но не всегда обращался за ней. Родственники вспоминали, что у него случались «приступы раздраженного молчания», поводом для которых был его внезапный и недолговременный отказ пользоваться речью. Эти вспышки не сопровождались ограничениями его свободы действия. Речевое развитие было нормальным. Мать в это время была с ним дома и занималась домашними делами. Она не была госпитализирована, но пять дней в неделю проходила лечение и была «озабочена своими проблемами». Несмотря на это, мать была достаточно доступна, и мальчик не проявлял с ней ни чрезмерной зависимости, ни чрезмерного сопротивления; все вспоминают, что его поведение в аспекте исследования реальности было вполне нормальным. Похоже, он любил рисковать.
Он пришел в лечение в возрасте тридцати четырех лет; у него была жена и двухлетний сын. Он достаточно хорошо функционировал на работе, занимая невысокий пост в большой корпорации. Его жена получила высшее гуманитарное образование и была более «интеллектуальной». В настоящее время он жаловался на генерализованную депрессию, чувство небезопасности, на то, что его не понимают, и на то, что у него бывают взрывы гнева, направленного на жену. Чувство небезопасности переживалось как на работе, так и дома. Большую часть жизни он считал себя рисковым человеком, но в настоящее время он предпочитал не рисковать на работе, когда требовалось полагаться только на себя. Периодически он мечтал о более стабильной работе, где преимущества меньше зависели бы от его инициативы. Или же он хотел, чтобы один из начальников взял бы его под свое крыло и стал его безусловным покровителем. Он перестал уважать себя за то, что испытывает такие желания. Он чувствовал зависимость от жены и звонил ей с работы по меньшей мере раз в день, хотя ее эти звонки раздражали. Временами она жаловалась на то, что он предпочел бы просто обнимать ее, чем заниматься с ней любовью.
Непонимание он ощущал в основном со стороны жены. Он чувствовал, что вместо того чтобы просто выслушать его, она всегда начинала защищаться, и в ее лице он обретал не друга, а противника. Даже в тех ситуациях, которые не подразумевали возможности критики, когда он просто хотел объяснить, что он чувствует по такому-то поводу, она быстро переходила к непрошеным советам, что делать и как решить проблему. Он хотел понимания, а получал советы.
Его взрывы гнева чаще всего возникали именно в этом контексте непонимания. Они протекали в виде характерных ссор, в завершение которых он кричал что-то вроде: «У тебя на все есть ярлыки и объяснения. Ты думаешь, они что-то значат, но для меня они не значат ничего. Я все это чувствую совсем не так». Пока он так бушевал, его жена выходила из комнаты; она была потрясена и холодно сообщала, что с ним невозможно разговаривать. Он шел за ней, испытывая страх и гнев, опасаясь, что он может ее ударить и тогда она его бросит. Страх был достаточно велик, так что он сдавал свои позиции, отступал и извинялся, чтобы восстановить предшествующий уровень контакта с ней. Когда это достигалось, он чувствовал меньший страх и большую безопасность, но при этом печаль и одиночество. В такие моменты он разражался рыданиями.
После одного особенно сильного взрыва в пятницу вечером он пришел ко мне в понедельник и сказал, что все выходные у него в голове крутилась одна песня, и даже сейчас он не может от нее отделаться. Это была песня "Reelin in the Years" в исполнении группы «Стили Дэн», альбом "Can`t Buy a Thrill". Он помнил только следующие слова:
Ты не узнаешь брильянт,
Если держишь его в руке.
То, что считаешь ценным ты,
Я не могу понять...
Может, ты собираешь слезы?
Хватило ли тебе моих...
То, что считают известным,
Я не могу понять.
Терапевтическое использование известной ранней истории в таком случае определяется чертами периода, который кажется самым выраженным. А это, в свою очередь, определяется тем, какая теория развития выбирается.
Определенные проблемы этого пациента — в сфере безопасности, страха быть покинутым, желания иметь покровителя, торможения инициативы — объясняются в терминах теории привязанности или теории сепарации/индивидуации, как паттерны, трансформировавшиеся в процессе развития. Приближение к матери и удаление от нее в возрасте двенадцати-тридцати месяцев относятся к подфазе практики фазы сепарации/индивидуации по Малер. Они также служат примером активации и дезактивации цели привязанности. По Малер, младенец возвращается для «дозаправки», чтобы получить нечто, что позволит ему снова идти во внешний мир и исследовать его. Что представляет собой это «нечто»? Малер не всегда выражается ясно, поскольку термин «дозаправка» может смешиваться с темами энергии. Но эта метафора предполагает своего рода наполнение эго (посредством слияния), которая позволит младенцу вновь сепарироваться и исследовать мир. По мнению теоретиков привязанности, эти приближения и удаления помогают младенцу выстраивать рабочую модель матери, которая действует как безопасная база, откуда можно отправляться и куда можно возвращаться. В терминах, используемых здесь, речь идет о взаимодействиях с регулирующим самость другим, которые обобщаются, получают репрезентацию и активируются. Несложно представить себе, как депрессия матери могла повлиять на эти поведенческие паттерны и их репрезентации. Остается проследить, как эти ранние паттерны преобразовались в развитии, чтобы предстать в конкретной и узнаваемой форме, которую они приняли у пациента в возрасте тридцати четырех лет.
Малер описывает появление у младенца около середины второго года жизни определенной серьезности, угрюмости и осмотрительности. Происходят изменения в эмоциональном фоне и установках младенца, и он отходит от прежней беззаботной позиции «мне море по колено». Малер и ее коллеги (Mahler, Pine and Bergman, 1975), назвали это «кризисом раппрошман», который происходит на подфазе раппрошман фазы сепарации/индивидуации. Они предположили, что в этот момент младенец наконец обретает достаточную сепарацию/индивидуацию от матери, чтобы осознать, что он не всемогущ, а все еще зависим. Это осознание приводит к изменению эмоций и установок и к частичному, временному смещению баланса в сторону большей привязанности, чем исследования. Младенец отчасти утрачивает свое всемогущество.
Влияние депрессии матери на «кризис раппрошман» ее сына сложно точно предсказать. С одной стороны, можно представить себе, что его всемогущество будет сохраняться дольше, но на менее надежной основе. С другой стороны, можно постулировать, что у него будет меньше возможностей развить адекватное чувство всемогущества и ему придется раньше от него отказаться. В любом случае, неясно, как этот ранний паттерн трансформировался в последующие тридцать два года. По крайней мере, в возрасте тридцати четырех лет его вера в собственные силы была несколько подорвана.
Таким образом, теория привязанности или сепарации/индивидуации, или представление о регулирующем самость другом и его репрезентации помогают перебросить мост от ранних негативных событий к поведению настоящего времени. Это происходит преимущественно в области ощущения ядерной самости и ядерного другого. Однако так невозможно объяснить две другие черты клинической картины настоящего времени, а именно, ощущение, что пациента не понимают с возникающей из-за этого болью, и конкретную форму его взрывов ярости. Необходимо рассмотреть область интерсубъективной соотнесенности.
В то время, когда наблюдаются подфаза практики фазы сепарации/индивидуации и поведение привязанности, а также использование регулирующего самость другого, также начинают формироваться ощущение субъективной самости и область интерсубъективной соотнесенности. Это проливает иной свет на приближения и удаления, которые происходят в первую половину второго года жизни. Когда младенец возвращается к матери, он делает это не только для «дозаправки» или деактивации системы привязанности. Это подтверждение того, что младенец и мать (как отдельные сущности) разделяют переживание младенца. Например, если младенец испытывает страх от того, что убежал слишком далеко, ему необходимо знать, что это состояние страха было услышано. Это нечто большее, чем потребность в объятии или успокоении; это также интерсубъективная потребность быть понятым. На более позитивной ноте, младенец может посмотреть на мать, вернувшись к ней после игры с коробкой, как бы говоря: «Ты тоже, как и я, чувствуешь, что эта коробка удивительная И чудесная?». Мать каким-то образом дает утвердительный ответ — «да, конечно» — обычно при помощи настройки, и младенец снова уходит. Или возвращения младенца к матери могут быть необходимы для подтверждения того, что реальность и/или фантазия интерсубъективности активно поддерживается («Трогать эту башню из кубиков — по-прежнему захватывающее занятие, правда, мама?»). Создание интерсубъективного разделения предоставляет возможность для исследования и любопытства. Даже уровень страха или подавленности младенца в этой ситуации отчасти согласовывается при помощи сигналов социальной референции в области интерсубъективности, использующих состояние чувства матери для настройки состояния чувства младенца. (Эта башня из кубиков скорее пугающая, чем интересная, или наоборот?»)
В раннем локомоторном поведении тоддлера предположительно происходит следующее. Когда младенец уходит слишком далеко, когда ему больно, его пугает нечто неожиданное или он устает, переживание возвращения к матери происходит почти исключительно на уровне ядерной соотнесенности. Так теория привязанности описывает то, что в других аналитических теориях называется регрессией или дозаправкой. В менее экстремальных состояниях, как мы считаем, большинство возвращений к матери имеет отношение к субъективному разделению — восстановлению интерсубъективного состояния, которое не является данностью, а должно активно поддерживаться. При этом большую часть времени возвращения к матери происходят в обеих областях одновременно. И действительно, мы часто видим младенцев, которые, доходя до грани страха, берут это переживание для интерсубъективного тестирования и возвращаются к матери с множественной целью, ядерной и интерсубъективной.
Возвращение младенца с множественной целью имеет потенциальное клиническое значение, поскольку некоторые матери считают, что одна из целей более приемлема, чем другая. Если мать в меньшей степени готова утешить испуганного младенца, он найдет поразительное количество интерсубъективных «поводов» вернуться. Использование интерсубъективной соотнесенности на службе физической безопасности хорошо известно клиницистам и родителям. Происходит и противоположное: некоторые матери в меньшей степени готовы к интерсубъективному разделению, но с готовностью принимают свою физическую способность устранить страх. Использование физической соотнесенности на службе фантазийной интерсубъективности также хорошо известно клиницистам и родителям.
Возвращаясь к вопросу о том, как депрессивное поведение матери во время этих событий могло повлиять на последующую жизнь пациента, мы не удивимся, что у него возникло острое чувство, что его не понимают. Он переживал болезненные разрывы в интерсубъективной соотнесенности, когда его жена не могла или не хотела разделять его субъективное переживание, насколько это было возможно. Вероятно, повышенная чувствительность к такого рода межличностному несоответствию установилась в период от года до двух с половиной лет. Возможно, его мать, вследствие депрессивной погруженности в себя, была относительно менее доступна для интерсубъективной соотнесенности, чем для физического использования в качестве надежной базы для действий. Болезненное чувство пациента, что его не понимают, наиболее продуктивно и достоверно будет рассматривать в терминах интерсубъективной соотнесенности.
Что насчет конкретной формы взрывов ярости пациента? В период от восемнадцати до тридцати месяцев пациент находился в фазе формирования вербальной соотнесенности. Появление вербальной соотнесенности позволяет младенцу начать интегрировать переживания в разных областях соотнесенности. Например, младенец может выразить вербальный эквивалент таких ядерных переживаний, как «Я не хочу смотреть на тебя», «Я не хочу, чтобы ты на меня смотрела» и «Я не хочу быть рядом с тобой». (Приблизительно в этом возрасте начинается негативность.) Младенец может также выразить вербальный эквивалент таких интерсубъективных переживаний, как «Оставайся в стороне от моей увлеченности этой игрушкой» и «Я не хочу делиться своим удовольствием». Вербальный эквивалент сначала может быть достаточно скудным: «НЕТ!» или, несколько месяцев спустя, «УЙДИ», или, еще позже, «НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». Слова являются попыткой связать воедино переживания младенца в разных областях. Вербальное действие произнесения «НЕТ!» — это утверждение автономии, сепаратности и независимости (Spitz, 1957). В то же время это относится и к простым физическим действиям в области ядерной соотнесенности, таким как «Я не хочу на тебя смотреть», хотя приблизительными словами, которыми младенец передаст это личное знание из ядерной области, будут «НЕТ» или «УЙДИ».
Это состояние дел и интегрирует, и дробит переживание и подводит младенца к кризису самопонимания. Самость становится тайной. Младенец осознает, что есть уровни и слои переживания самости, которые в некоторой степени отдалены от официальных переживаний, утвержденных языком. Былая гармония нарушается.
Я предполагаю, что этот кризис самопонимания в значительной степени ответствен за наблюдаемую в этом периоде угрюмость. Этот сдвиг является неспецифическим последствием общего кризиса самопонимания и переживания самости, вызванного попыткой (обреченной на частичный провал) вербального представления переживания. Он влияет на все жизненные вопросы и влечет за собой определенные последствия для тем близости, доверия, привязанности, зависимости, мастерства и т. д., а также для сепарации и индивидуации.
Этот кризис самопонимания происходит из-за того, что младенец впервые переживает самость как не целостную и справедливо ощущает, что никто не сможет устранить этот раскол. Младенец утрачивает не всемогущество, но, скорее, эмпирическую целостность.
Эта версия происходящего сильно отличается от версии Малер. Однако она помогает лучше понять взрывы гнева пациента, направленные на его жену, когда она настаивает на переводе его субъективных переживаний в слова. Для него эти субъективные переживания не вписываются в ее слова. Он чувствует замешательство, беспомощность и ярость. Это версия в настоящем времени младенческого кризиса, когда необходимость вербализовать довербальные переживания приводит к их дроблению. Для смягчающего эффекта необходимы родители, а мать этого пациента с ее депрессией, скорее всего, не помогала ему облегчить этот переход.
Обобщая, можно сказать, что основная клиническая ценность выдвигаемых здесь взглядов заключается в предлагаемых стратегиях поиска для конструирования терапевтически эффективных историй жизни. Представленная система допускает теоретическую гибкость в отношении происхождения патологии в развитии. При этом она предлагает альтернативные объяснения известных событий, тем самым предоставляя более широкий спектр возможностей, и подчеркивает представления о развитии, не дающие ответов о времени появления клинических проблем, а фокусирующиеся на стратегиях поиска.
Следствия рассмотрения различных ощущений самости
как основного содержания чувствительных периодов
Каждому ощущению самости соответствует фаза формирования, когда оно впервые появляется — от рождения до двух месяцев для ощущения появляющейся самости, от двух до шести месяцев — ядерной самости, от семи до пятнадцати месяцев для ощущения интерсубъективной самости, и от восемнадцати до тридцати месяцев для ощущения вербальной самости. Эти фазы формирования можно считать «чувствительными периодами» четырех ощущений самости по причинам, которые приводятся в главе 9.
В случае женщины-адвоката, который описывался в этой главе, можно на основании теории сказать, что у нее действительно была предрасположенность к такой проблеме, но появившаяся в возрасте от двух до шести месяцев в области ощущения ядерной самости, в особенности авторства, а не в возрасте от года до двух с половиной лет в связи с вопросами автономии и контроля. Основная битва ведется вокруг ощущения ядерной самости. Авторство самости — главный приз, а автономия и контроль — всего лишь локальные сражения. Это клиническое предсказание, однако, обладает ограниченной ценностью как реконструкция по следующей причине. Хотя различные области переживания самости заменили традиционные клинические темы развития как основное содержание чувствительных периодов, они менее уязвимы для необратимых первоначальных впечатлений, поскольку мы считаем, что все области ощущения самости активны и продолжают формироваться на протяжении всей жизни. Они не считаются реликтами прошлого и завершенными фазами развития, как это было с традиционными клиническими темами развития. Система остается более открытой для патогенного воздействия, хронического или острого. Поэтому даже при рассмотрении клинических проблем в разных областях переживания самости существует много потенциально возможных реальных точек патогенеза за пределами чувствительного периода. Данная теория не склонна заранее задавать реальные точки происхождения патологии.
Тем не менее эта точка зрения позволяет предсказать, что влияния среды в периоды формирования различных ощущений самости приведут к относительно большей патологии, или эта патология будет относительно менее обратимой, чем в более поздние периоды. В главе 9 мы обсуждали ряд наиболее очевидных предсказаний. В общем чувствительные периоды формирования частично предопределяют ответ на ряд вопросов о переживании самости: Каков диапазон стимуляции и событий, который субъективно воспринимается как переживание самости? Что будет переживаться как переносимое, а что как дезорганизующее? Какие аффективные тона будут привязаны ко всем переживаниям самости в разных областях? В какой степени взаимодействие с регулирующим самость другим необходимо для поддержания ненарушенного ощущения самости? Какие переживания самости можно легко разделять или сообщать, а какие нет? Ясно, что рабочая теория, предсказывающая эти последовательности, должна обладать значительной ценностью в формулировании онтогенеза состояний патологии самости. Она также будет обладать ценностью в рамках традиционного психоаналитического подхода, даже если будет использоваться только как способ рассмотрения доэдипального материала и работы с его истоками.
Межличностный мир ребенка
 Книга выдающегося клинициста и исследователя Дэниэла Н. Стерна исследует внутренний мир младенца. Как младенец воспринимает себя и других? Существует ли для него с самого начала он сам и другой, или есть некая неделимая общность? Как он соединяет отдельные звуки, движения, прикосновения, визуальные образы и чувства в единое представление о человеке? Или это единое воспринимается сразу? Как младенец переживает социальное событие — «быть вместе» с кем-то? Как это «быть вместе» запоминается, или забывается, или представляется ментально? Каким становится переживание связи с кем-то по мере развития? Вообще говоря, какой межличностный мир — или миры — создает младенец? На эти и другие вопросы, касающиеся субъективной жизни младенца, пытается найти ответы автор, сочетающий подходы клинициста и исследователя и методики психоанализа и психологии развития.
Книга выдающегося клинициста и исследователя Дэниэла Н. Стерна исследует внутренний мир младенца. Как младенец воспринимает себя и других? Существует ли для него с самого начала он сам и другой, или есть некая неделимая общность? Как он соединяет отдельные звуки, движения, прикосновения, визуальные образы и чувства в единое представление о человеке? Или это единое воспринимается сразу? Как младенец переживает социальное событие — «быть вместе» с кем-то? Как это «быть вместе» запоминается, или забывается, или представляется ментально? Каким становится переживание связи с кем-то по мере развития? Вообще говоря, какой межличностный мир — или миры — создает младенец? На эти и другие вопросы, касающиеся субъективной жизни младенца, пытается найти ответы автор, сочетающий подходы клинициста и исследователя и методики психоанализа и психологии развития.
© PSYCHOL-OK: Психологическая помощь, 2006 - 2025 г. | Политика конфиденциальности | Условия использования материалов сайта | Сотрудничество | Администрация





